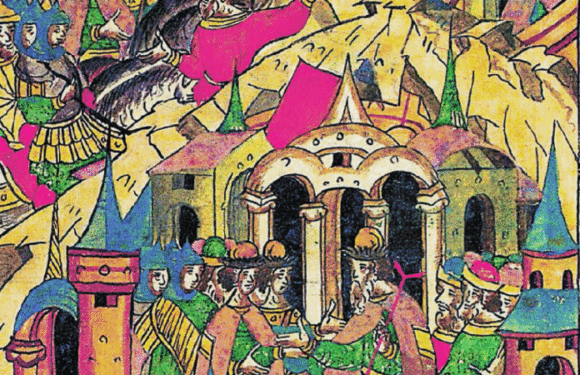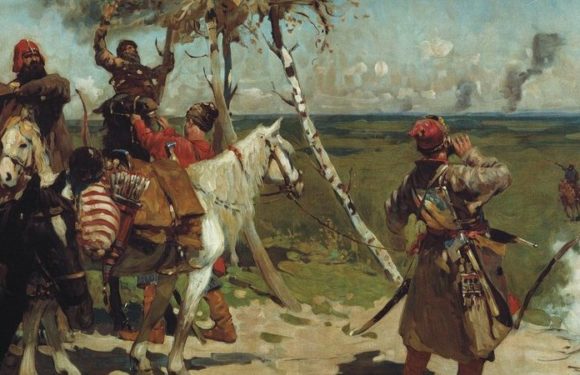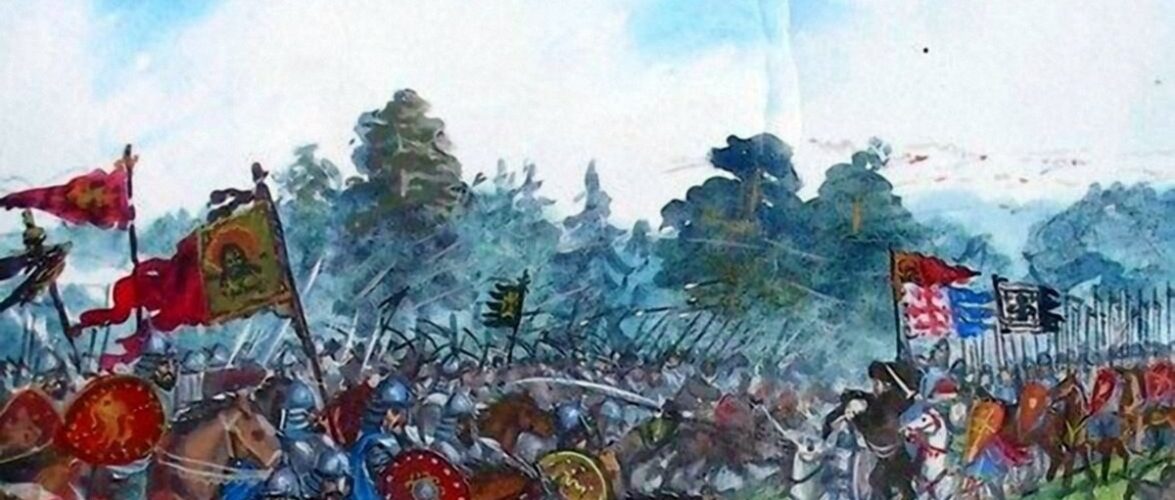
14 июля 1471 года состоялась битва на Шелони. К весне 1471 г. переговоры Ивана III с Новгородом зашли в тупик. В Новгороде пришла к власти пролитовская партия, которая приглашала на новгородский стол короля Казимира и замышляла с ним договор, направленный против великого князя Московского. Узнав о договоре с Казимиром великий князь принял решение «пойти на Новъгород ратью».
Решающее значение приобретал фактор времени — необходимо было не дать возможности окончательно оформить подчинение Новгорода королю Казимиру. Принятие решения о походе летом 1471 г. было стратегически единственно правильным.
Весна 1471 года была поздней. По едва просохшим дорогам в Новгород мчался гонец великого князя с «разметными грамотами» (о разрыве отношений и объявлении войны). Одновременно в Псков ехал дьяк Яков Шачебальцев с призывом сложить целование новгородцам и идти на них ратью.
С аналогичной миссией в Тверь ехал посол к тамошнему великому князю Михаилу Борисовичу. Борис Тютчев следовал на далекую Вятку, «веля ити им на Двинскую землю ратью же». На Устюг, к воеводе Василию Федоровичу Образцу, тоже ехал гонец, «чтобы с Устюжаны на Двину же ратью пошел», соединившись предварительно с вятчанами.
В Четверг, 6 июня. Великокняжеские войска начали поход. В этот день «отпустил князь велики воевод своих с Москвы». Двинулся первый эшелон — князь Даниил Дмитриевич Холмский, воевода Федор Давыдович Хромой. Ближайшая задача — выход к Русе. Колонна князя Холмского и Федора Хромого двигалась по западному краю Новгородской земли, отсекая ее от главного союзника — короля Казимира.
Ровно через неделю тронулась вторая колонна — князя Ивана Васильевича Стриги Оболенского, с приданным ей отрядом служилого татарского царевича Данияра. Эта колонна должна была идти по Мсте, отрезая Новгород от восточных его владений.
Наконец, еще через неделю, 20 июня, выступил сам великий князь. 24 июня он был на Волоке Ламском. 29 июня — в Торжке, здесь к нему подошел тверской полк, посланный послушным Михаилом Борисовичем, во главе с князем Юрием Дорогобужским и воеводой Иваном Жито.
Великий князь со своими войсками шел посередине, осуществляя связь между фланговыми колоннами. График похода был расписан по дням: приехавший во Псков посол великого князя точно знал, что в этот самый день великий князь прибыл в Торжок.
Началась последняя феодальная война на Руси, страшная война русских против русских. 24 июня запылала Руса. Воеводы все вокруг нее «поплениша и пожегоша» и вышли к Ильменю. И псковичи выступили в поход против своего когда-то «брата старейшего». Четырнадцать посадников и «вся сила псковская» принялись «воевати Новгородскую волость и жечи». Новгородцы наносили им ответные удары.
Щедро лилась русская кровь, пылали русские деревни, подожженные русскими, русские, люди запирали своих соотечественников и единоверцев в «хоромы» и жгли. Средневековые нравы и обычаи проявляли себя в полном блеске.
Современники не удивлялись этому. Людей грабили, убивали и жгли повсюду в феодальной Европе. Двумя годами раньше по приказанию герцога Карла Бургундского «утопили большое число несчастных горожан» города Льежа, а сам город сожгли, запалив его с трех концов. Вся страна вокруг Льежа была опустошена, деревни сожжены, кузницы разрушены.
«Людей преследовали по густым лесам, где они попрятались со своим имуществом, многих убили или взяли в плен, так что добыча… была богатой»,— без всяких эмоций констатирует образованный современник, видный дипломат и историк Филипп Коммин. Грабили и жгли французы и русские, бургундцы и англичане, немцы и литовцы.
Кровавая и беспощадная летняя война 1471 года далеко не была, однако, бессмысленной. В отличие от всех предыдущих феодальных войн, которых на Руси было неисчислимое множество со времен внуков Ярослава Мудрого, в отличие от войн, которые долгими веками вели между собой вассалы французского короля или германского императора, это была не борьба за власть между двумя феодальными владыками, не вооруженный спор о куске территории или о феодальных доходах.
На болотистых низинах Принльменья, на берегах Мсты и Шелони и далекой Двины летом 1471 года решался принципиальный, важнейший вопрос о будущем Русской земли. Наступал один из звездных часов истории.
А что происходило в Новгороде? Каковы были действия господы, когда она в мае 1471 года получила «разметные письма» великого князя? Новгородская летопись кратко сообщает о начале похода московских войск: «…взяша преже Русу, и святые церкви пожгоша, и всю Русу выжгоша». Сами же новгородцы, по словам своего летописца, «изыдоша противу на Шелону, а к Русе послаша… судовую рать».
Этому предшествовал призыв к оружию новгородских горожан. О том, как он происходил, рассказывает московский летописец. «…Мастыри (мастера) всякие, спроста реши, плотницы и горчары и прочий, которые родивыся на лошади не бывали… всех тех изменницы… силою выгнаша. А которым бо не хотети пойти к бою тому, и они сами тех разграбляху и избиваху, а иных в реку Волхов метаху».
Итак, по оценке москвичей, мобилизация носила насильственный, принудительный характер. Московский летописец подчеркивает низкую боеспособность новгородских воинов, не имевших никакого навыка в ратном деле.
Подчеркивает он и другое — «плотницы и горчары» не только никогда в жизни не садились на лошадь, но у них «и на мысли… того и не бывало, что руки подняти противу великого князя». Именно поэтому они не хотели идти в поход и «изменникам» (т.е. руководителям новгородской политики) приходилось их «грабить» (конфисковывать имущество), избивать и даже метать в Волхов.
Выразительная картина, нарисованная московским летописцем, как нельзя более соответствует данным о междоусобной борьбе в Новгороде начиная с осени 1470 года. Несмотря на приход к власти «литовской» партии, в городе оставалось много противников войны с великим князем. Едва ли основная масса Новгородцев, плотников и гончаров и других «мастеров», пылала желанием пролить кровь за власть польского короля над их городом.
Тем не менее рать была собрана. «Плотницы и горчары» все же поднялись на защиту родного города, родной старины, привычного, прадедовского уклада жизни. Снова над новгородским ополчением взвились кончанские стяги. Начался поход. Судовая рать, т. е. пехота, посаженная в гребные суда, была отправлена через Ильмень на помощь Русе. Другая, конная, была послана на Шелонь.
По данным московской летописи, первое сражение произошло на берегу Ильменя, под Коростыныо. Новгородская судовая рать пересекла Ильмень и высадилась, не замеченная москвичами. Новгородцы совершили внезапное нападение на своих «оплошившихся» противников, стоявших на станах на отдыхе. Но опытные московские воины быстро оправились от неожиданности и отразили атаку новгородцев.
Свирепой расправе подверглись пленные — им отрезали носы, уши. Не сообщая подробностей, новгородская летопись признает, что было большое кровопролитное сражение и что новгородской «пешей рати паде много, а инии разбегошася, а иных москвичи поимаша». При этом новгородцы также побили «много москвичь».
Итак, первое сражение отличалось кровопролитием и закончилось победой москвичей. По словам их«летописца, они захваченные в бою вражеские доспехи «в воду метаху, а инии огню предаша. Не бяху бо им требе, но своими довольны доспехи всии».
Характерная деталь. Доспехи новгородского пешего ополчения, наспех собранного, кое-как вооруженного еще дедовскими, должно быть, топорами и рогатинами, не нужны были московской коннице и вызывали у нее презрение. Ловко и ладно сидели на конях дети боярские великого князя со своими боевыми слугами, красуясь в легких, удобных доспехах.
После победы под Коростынью войско князя Даниила Холмского и Федора Хромого пошло обратно к Русе — туда уже подходила по реке Поле другая судовая рать новгородцев. Снова сражение, и снова победа москвичей. В ставку великого князя мчится с радостной вестью гонец Тимофей Замытский. 9 июля на озере Коломне Иван Васильевич узнает о новой победе своих воинов.
Одержав две победы над двумя новгородскими судовыми ратями, князь Данило Холмский и Федор Хромой приняли решение двинуться к югу, к городку Демону, опорному пункту новгородцев на Ловати. Великий князь Иван Васильевич не согласился с предложениями своих лучших воевод. Он отменил их движение на юг, на Демон. Вместо этого он «посла к ним, веля им ити за реку Шелону, сниматись (соединяться) с псковичи».
Ранее, выступив в поход по требованию великого князя, псковичи вторглись в Новгородскую землю. Они «воеваше волости и пожгоша около рубежя на 50 верст, але и боле»,— с удовлетворением отмечает псковский летописец. Против них-то и двинулись главные силы новгородцев во главе с воеводами Василием Казимиром и Дмитрием Борецким. Борясь за свое существование, боярская республика судорожно напрягала все силы. Господа пыталась организовать короткие контрудары по войскам, с разных сторон приближающимся к Новгороду. Но такой способ борьбы требует большого искусства и хорошей организации.
Контрудары новгородцев оказались не согласованными между собою боями отдельных ратей, пеших и конных. «Коневая рать не пошла к пешей рати на срок в пособие»,— замечает новгородский летописец. Это, видимо, было одной из причин поражения новгородских судовых ратей в боях под Коростынью и на Поле.
Теперь огромное новгородское войско приближалось к Шелони. Впереди были сравнительно незначительные силы псковичей — победа над ними не только спасла бы новгородские волости от разграбления, но и подняла бы боевой дух Господина Великого Новгорода. А победа казалась несомненной — московские войска Даниила Холмского и Федора Хромого были еще далеко, они ведь были скованы боями с судовой ратью на Ильмене и Поле. Разгром псковичей был неминуем. Но директива великого князя в корне изменила ситуацию.
Вместо того чтобы идти осаждать Демон, предоставляя псковичей собственной участи, московская конница быстрым маршем двинулась на Шелонь. В субботу, 13 июля, на правом берегу Шелони засверкали доспехи москвичей. Одновременно на левом берегу затрепетали на ветру новгородские кончанские стяги. Какое-то время оба войска шли параллельно друг другу, разделяемые рекой.
Наступал вечер. Московское войско остановилось на ночлег. По подсчетам воевод, у них было не более четырех тысяч всадников — остальные, по словам летописца, «по загонам воююще», т. е. грабили новгородскую землю. Да, кто-то воевал в «загонах». Но основное ядро своей конницы московские воеводы привели на берег Шелони — директива была выполнена точно и своевременно. На другом берегу как туча колыхалось огромное войско новгородских бояр.
Наутро 14 июля через реку началась перестрелка из луков и, как было принято в средние века (да и раньше, со времен Троянской войны, если верить Гомеру), перебранка. По словам ростовского владычного летописца, новгородцы «гордостью своею величающеся, и надеяхуся на множество людей своих, и глаголаху словеса хульнаа на наших». Но новгородский летописец молчит о гордости и похвальбе. Он рассказывает о распрях в стане новгородцев.
Владычный полк отказался участвовать в битве: «владыка нам не велел на великого князя руки подынути, послал нас владыка на Псковичь». Рядовые новгородцы, те самые «плотницы и горчары», которых силой посылали в поход, начали «вопити на больших людей».
Их можно было понять: долгий поход был, не под силу неопытным, плохо снабженным воинам. Сражение должно было решить все. Можно было понять и владычного воеводу: нареченный, но еще не утвержденный архиепископ Феофил не хотел ссориться с великим князем. Он ведь был представителем «умеренных». На берегах Шелони происходило что-то вроде вечевой сходки.
Князь Даниил Холмский и Федор Хромой были опытными воинами. «Господине и братиа наша! Лутче нам есть зде главы своя покласти… нежели с срамом возвратитися». Оседлав коней, войско бросилось к бродам через глубокую Шелонь. Не всем удалось воспользоваться бродом. Многим пришлось добираться вплавь.
Разбросанные течением, выходили московские всадники на левый берег, отделенный от реки широкой полосой песка. С копьями и сулицами бросились на них новгородцы. По их словам, им даже удалось отогнать москвичей за Шелонь, но тут на них якобы ударили из засады татары.
Это маловероятно. Новгородский летописец любил все неудачи сваливать на татар. Об их участии в Шелонской битве не говорят ни московские, ни псковские источники. Известно, что вассальный «царевич» Даниар шел в правой колонне со Стригой Оболенским, а не в левой с князем Холмским. Да и сами условия боя на Шелони, как они описываются всеми источниками, исключают возможность действия засадного полка, равно как и обратный переход через Шелонь москвичей, преследуемых новгородцами.
Картина боя, вероятно, была такой. Стремительная переправа московской конницы через реку застала новгородцев врасплох. Они не успели изготовиться к бою и оказали мужественное, но неорганизованное сопротивление. Страшный удар кавалерийской массы могли выдержать только очень опытные и искусные воины, заранее изготовившиеся к бою.
Типичная сцена средневекового сражения. Рубя и коля направо и налево, конница в защитных доспехах мчится по трупам пехоты и сбитых с коней вражеских всадников. «Множество же изсекоша бесчислено, яко не мощи на коне ездити в трупии их».
На двенадцать верст гнали московские всадники бегущих новгородцев, рубили, сбивали с коней, брали в плен, Но на двенадцать верст с поля боя могли бежать только конные воины, дружины новгородских бояр и посадников, лучшие всадники владычного полка, на лучших, выносливых, выезженных конях. А «плотницы и горчары»? «Меньшие», «черные люди» и не умеющие ездить как следует на конях?
Множество пленных привели в свой стан победители. Василий Казимир, Дмитрий Борецкий, Кузьма Григорьев, Яков Федоров, Матвей и Василий Селезневы («сестричичи» Казимира), Павел Телятев, Кузьма Грузов… Посадники, бояре, воеводы. Цвет новгородской аристократии, элита Неревского конца, Прусской улицы. Опора «литовской» партии, политики, заключавшие договор с королем.
Разгром под Русой пятнадцать лет назад был детской игрой по сравнению со страшной трагедией на Шелони. Не отдельный отряд, не передовая рать, а главные силы боярской республики были смяты, уничтожены, растоптаны московской конницей. Военное могущество господы рассеялось как дым.
Василию Казимиру и его «сестричичам», Дмитрию Борецкому и другим воеводам не хватило ни воинского искусства, ни воинской доблести. Их москвичи «руками яша». Никто из них не предпочел смерть на поле боя московскому плену. Известие о победе своих войск Иван Васильевич получил 18 июля, а 24 июля он прибыл в Русу. Сюда же были приведены пленные.
Перед Иваном Васильевичем стояли посадники, бояре, воеводы, житьи. В его глазах это были не просто военнопленные, подлежавшие по средневековым традициям выкупу или размену по окончании военных действий.
Перед великим князем, государем всея Руси, стояли изменники, клятвопреступники, предатели Русской земли. «Вы за короля задаватися хотесте». Дмитрий Борецкий, Василий Губа Селезнев, чашник владычный, Еремей Сухощек и Киприан Арзубьев подверглись «немилостивной», страшной казни. «Секирою отсекоша им главы, к колоде прикладая», — с содроганием записал псковский летописец.
Посадник Василий Казимир и 50 «лутчих» новгородцев были отправлены в Москву и в Коломну — в тюрьмы. «А мелких людей велел отпущати к Новгороду». Не вассалы — подданные Русского государства, вот кто такие были в глазах Ивана Васильевича новгородцы. «Злу заводчики» были наказаны. «Мелкие», «меньшие» люди, уцелевшие от гибели на Шелони «плотницы и горчары» — отпущены с миром к своим очагам. Великий князь, государь всея Руси, строг, но милостив.
По материалам: Алексеев Ю.Г. «К Москве хотим»: Закат боярской республики в Новгороде.